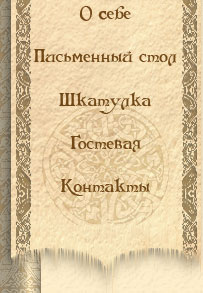И жизнь в придачу - Страница 1
И ЖИЗНЬ В ПРИДАЧУ
И жизнь впридачу - Страница 1
И жизнь впридачу - Страница 2
Необязательный П Р О Л О Г, который мог стать
необязательным Э П И Л О Г О М
Звонок в дверь. Цепочка тихо брякнула, в щели возник настороженный глаз.
– Вы к кому?
– Добрый день. Мы с Николаем Евгеньевичем договаривались о встрече...
– Одну минутку...
Что он, предупредить домработницу не мог?.. Впрочем, не привыкать топтаться на чужих лестничных площадках. Журналистка сунула руку в сумочку – вдруг в суматохе позабыла взять диктофон?.. Нет, оказался там, где всегда. А минутки и не потребовалось. Спустя несколько мгновений дверь снова открылась – на этот раз широко, приветливо.
– Заходите.
Домработница – пожилая женщина в опрятном платье, – посторонилась, пропуская гостью. Та вошла, скинула туфли, сменив их на предложенные пушистые тапочки.
– Проходите. Николай Евгеньевич ждёт вас в гостиной.
– Спасибо...
Обмен любезностями состоялся. Журналистка прошуршала тряпочными подошвами в большую комнату – даже не комнату, а целую залу. Полумрак, прохлада, драпировки, статуэтки на полке огромного старинного камина... Дворянское гнездо, посторонним вход воспрещён. Приятно чувствовать себя избранной, которую допустили в святая святых. Журналистке захотелось присвистнуть от восторга по-мальчишески, однако сдержалась. С любопытством вертела головой, поэтому не сразу заметила хозяина.
– Добро пожаловать!..
Владелец заповедника. Седовласый, с благородными чертами лица, сразу видно – обладает безупречными манерами. К сожалению, подойти к посетительнице и галантно поцеловать ручку не имеет возможности – паралич, будь он неладен... Как говорится, прикован к креслу. Зато приглашающий жест полон величия.
– Присаживайтесь, прошу вас...
– Благодарю, – журналистка с трудом удержалась от реверанса. Пожалуй, двух часов, проведённых здесь, хватит, чтоб утратить всю присущую раскованность... – А можно, я сначала осмотрюсь?
– О, ради бога!..
В проявлении вежливости его не переплюнешь, нечего и пытаться. Она неторопливо направилась в путешествие по залу. Задание редакции – сделать очерк о коллекционере, владельце частного собрания картин. Долго же пришлось его уламывать! А ведь не сказать, что такой уж бука и нелюдим. Возможно, просто опасался во всеуслышание заявлять о своих сокровищах. Они, коллекционеры, все немного с приветом, хотя в деле разбираются, как боги. И этот, наверняка, во всём, что касается картин, – ас! Вон их сколько на стенах... Полотна большей частью не из тех, чьи репродукции мелькают в журналах и на открытках. Ну-ка, ну-ка, мы тоже не дураки, подумала журналистка, перед тем, как сюда ехать, полистали некоторые книжки. Для тех, кто разбирается в живописи, здесь, конечно, есть чем полюбоваться. Узнаются мастера кисти, но есть кое-кто и совсем незнакомый. Ничего, всё узнаем, всё выспросим...
Николай Евгеньевич из своего кресла следил, как гостья задерживается то у одного, то у другого полотна. По её реакции видно было, что девица в этом всё же слабо ориентируется.
– Это Верспронк, – пояснял он. – А то, что вы сейчас разглядываете, – произведение Дирка Якобса... Франс Гальс, отличный детский портрет, не правда ли?.. Питер де Хох... Один из натюрмортов Класа...
– Это голландское художество? – блеснула журналистка своими познаниями в живописи.
– Школа, – поправил он. – Да, в основном... Есть кое-кто из испанцев, два Ренуара... Но голландская и фламандская школы меня привлекают больше всего.
– Можно узнать, почему?
– А это трудно объяснить. Почему, скажем, вам нравится один человек, зато вы терпеть не можете другого?
– Ну, это разные вещи.
– Всё в мире связано. Люди и картины, перо и слово, история и современность...
Журналистка украдкой сделала скучающую гримаску. Да, такой загрузит по макушку своими рассуждениями. Лучше бы редактор отправил взять интервью у популярного певца, который снова приехал в город на гастроли... Ладно, чего там, знала, куда шла, по крайней мере, старичок словоохотлив, не придётся вытягивать щипцами каждую фразу.
– А это кто?
Журналистка остановилась перед небольшим полотном в простой некрашеной раме. Хм, на первый взгляд ничего особенного. Однако коллекционер оживился.
– О, это один из лучших экспонатов в моём собрании... Питер Артсен, слышали о таком?
– Нет. Тоже голландец?
– Он жил и работал в Амстердаме. Достаточно сложная творческая судьба, последние годы жизни пришлись на Нидерландскую революцию. Там же, в Амстердаме, погибли почти все его картины, которые он создавал для церковных алтарей... Но это полотно, понятно, Артсен писал не для церкви.
– А интересно, как к вам попадают картины?
– Ну!.. – Николай Евгеньевич развёл руками. Что они там, в своей редакции, не могли прислать кого-то поумнее? Задаёт же вопросы... – Как собирают коллекции? Что-то выменивают, что-то покупают, что-то, может быть, получают в подарок.
Журналистка вопросительно покосилась на него.
– А вот, к примеру, Артсен?..
– Он перешёл ко мне по наследству от деда. Кажется, с картиной было связано какое-то семейное предание. Якобы кто-то из моих пращуров побывал в Голландии ещё до петровских времён либо что-то в этом роде… К сожалению, в своё время я этим не интересовался. В молодости всегда находятся другие увлечения. А потом... Знаете, как это бывает, люди смертны... Кстати, за это полотно предлагал высокую цену Рейксмузеум в Амстердаме.
– Вы не продали?
– Как видите...
Журналистка снова уставилась на картину. Непонятно, какая выгода была этому Рей... в общем, голландскому музею от такой покупки? Ну, рама, бог с ней, не в оформлении дело. А само полотно... Она всмотрелась уже внимательнее. Это был портрет. На голубовато-сером фоне стояли, приобняв друг друга за плечи, два молодых человека. Художники вообще-то любят располагать своих натурщиков так, что не поймёшь, куда они глядят и что видят. Но эти двое смотрели прямо на зрителя. Один русоволосый, скуластый, с уверенным взглядом карих глаз, в которых затаилась чуть заметная смешинка. На тонких губах второго, белобрысого и худощавого, жила добродушно-хитрая усмешка. Одеты просто, уж, наверно, не дворяне. Вышли мы все из народа... Но зато обвешаны оружием, наверно, не в одной схватке побывали. Казалось, мягкий бриз лохматил волосы обоим. На шее белобрысого, где-то у ключицы, в широко распахнутом вороте рубашки виднелся затянувшийся шрам. Реализм, подумаешь!.. За спинами парней угадывались мачты. В торговом порту они, что ли? Корсары, небось, искатели лёгкой наживы...
Журналистка оглянулась.
– Чей это портрет?
– К сожалению, не знаю. Но рискну предположить, что один из них русский, видите, отчётливо узнаются славянские черты лица.
– Вы думаете?
– Я же сказал – это лишь моё предположение. По всей вероятности, это из последних полотен Артсена, а он умер в 1575 году. Этим картина мне и нравится – она будит воображение. Представьте, что этот русоволосый и в самом деле из России... Каким образом русского парня занесло в революционную Голландию – ума не приложу. Скорее всего, это просто мои фантазии. А я, как видите, делюсь этим с вами...
Журналистка ещё раз окинула взглядом портрет и с сожалением отошла. А пожалуй, в этой картине и в самом деле что-то есть... Ладно, возьмём интервью и, спросив разрешения, ещё посмотрим, помечтаем. Она снова оглянулась на полотно. Две пары глаз, казалось, внимательно следили за нею из тьмы веков…
Ч А С Т Ь П Е Р В А Я
МОСКВА
– Я вот как дам тебе по лбу, мосол коровий, – глаза вмиг к носу скатятся!
– Чего-чего?
– Не понял?.. Убери руки! Р-руки убери, кому сказал!..
Нет, правда, он мне надоел! Вцепился в ворот моей рубахи, как будто тонуть собрался. Вам глянется, если вас за здорово живёшь хватать станут? Меня такое всегда ярило до дрожи. Вообще я парень мирный. А уж когда трезвый, тогда и мухи не обижу – если, конечно, меня не задевать. Но вот сейчас Степан, бердыш ему в... одно место, меня допёк. Хотя, может, в чём-то я и сам повинен. Кто же знал, с какой малости начнётся эта свистопляска!
Засели мы под вечерок в одном кабаке на Чудовской улице. Та ещё ватага собралась – все стрельцы из “выборных”. Относился наш полк к опричным войскам батюшки-государя Ивана, которому за нелёгкий нрав дали прозвище Грозного. Да что я вам рассказываю, сами, верно, про его подвиги не раз слыхали... Короче говоря, что ему, что нам палец в рот не клади – отгрызём и не подавимся. Ещё и мало будет. Мы такие.
Хозяин постарался – выставил на стол что покрепче. Медовуха ядрёная оказалась, хмелеть начали, ещё горло как следует не промочив. А за ковшом – ковш, за куском – кусок, там и разговоры нескучные пошли. То да сё, кто-то (не помню кто, Матвей, кажется) завёл речь о недавнем побоище с Девлет-Гиреем. Одни завздыхали, другие почёсываться начали, страсти вспоминая.
Гирей – это такая зараза, что не приведи господи, хан из крымских татар. Он прошлым годом, в мае, когда пол-Москвы на ярмарке в Китай-городе гуляло, решил царю о себе напомнить. Потом говорили, что это какая-то сволочь из опричников, рядовой служилый татарин нам удружил, не предупредив вовремя. Ладно, дело прошлое, расскажу... Царя в те дни в Москве не было, он, как обычно, в Александровской слободе отсиживался. Мёдом ему там, что ли, намазано, не знаю... В общем, царь в Александровской, военачальники тоже кто куда подевались. Одни стрельцы в Москве, и то не все. А мы тогда в дозоре стояли. Слышим, со сторожевой башни орут: “Татары наступают, мать-перемать! Какого хрена вы тут телитесь?! Живо к южным посадам!” Ну, мы оружие похватали и кинулись врага крошить. В суматохе даже про воеводу позабыли.
Вылетаем из города, глядим – и правда, только материться остаётся. Гиреево войско неслось прямо на нас широкой косоглазой лохматой волной. Похоже, это была какая-то передовая шайка или эта... как её... орда. Все как один визжали, свистели, нагайками и саблями размахивали так, что в глазах рябило. Матвей – ему что трезвому, что пьяному всё едино, лишь бы было весело – рявкнул во всю глотку: “Ребята! Не посрамим государя! Зубы кривые им, мозглявцам, повышибаем!” И припустил в сторону татар. С их стороны кто-то гикнул, по-дурному заверещал – за свои зубы, наверное, обиделся, – и вся эта орава как двинула скопом на нас! А нас же мало... Рубились и правда весело, по-русски, по-молодецки втюхивая очередному косоглазому по черепушке, по мохнатой шапке. Тем, кому саблей или копьём не досталось, припечатывали в челюсть кулаком. Не скажу, что зубы у них от этого прямее становились, но что редели – это точно. И тут-то я, крутясь как заведённый среди вражин, успел заметить спину Степана. Он улепётывал с поля боя, судорожно вертя головой. Боялся, наверное, как бы не достала его татарская стрела...
Отряд наш был, как я уже сказал, невелик. Разгромили нас наголову. Последнее, что помню – наискось летящее на меня лезвие вражеской сабли. Хлестнул татарин знатно, я на траву рухнул и уже не поднялся. Кровь так ручьём и хлынула. Поганец косоглазый, видимо, посчитал, что я тут же на месте окочурился, и добивать не стал. А я вот живой остался. Верно, уж очень помирать не хотел.
Матвею тоже попало изрядно. Долго нас потом выхаживать пришлось... От всего отряда, что вышел навстречу татарам, уцелело несколько человек (не считая Степана, который дал дёру в самом начале рубки). А Гирей сжёг к чёртовой матери почти все посады и успел уйти до того, как из города вышли основные полки.
Вот об этом и начал сейчас Матвей вспоминать, отхлебнув в очередной раз медовухи. А я припомнил, как драпал Степан, бросив товарищей на произвол судьбы и татар. Но сказать я ничего не сказал, только взглянул на Стёпку мрачно. Рубец-то на плече до сих пор нет-нет и заноет...
А тот мой взгляд уловил, набычился, полоснул глазами злобно. Промолчал и речь на баб перевёл. И надо признать, перевёл неудачно. Начал похваляться сестрой. Окосел, должно быть, от хмеля.
– А Софья-то у меня и умница, и скромница! И девка крас... крас-сивая – что, вру? Дочка у воеводы ей и в подмётки н-не годится, да... И рукодельничает – слышь, мужики? – недавно это... как его... рушник выш-шила, да таково приглядно! И бисером отделала...
– А бисером зачем? – встрял Матвей. – Всю рожу покарябать можно!
Степан, конечно, за сеструху обиделся.
– Ты, Матюха, дурак, дураком и помрёшь! А би... бисер этот для крас…сты, понимашь али нет? Что я, по-твоему, этим руш... рушником рыло утирать стану? Не-ет, на стенку в горнице повесим! Придут сваты, пусть любуются...
– Сваты? – пьяно удивился Матвей. – Да на кой вам сваты?
– Так не век же ей в отцовских хоромах проживать! Простых вещей не понимает, остолоп эдакий... В девках засидится, кому нужна будет?
Матюха насмешливо поднял бровь.
– А она разве в девках?..
Вокруг смущённо захихикали. Я ухмыльнулся. Все знали, что Степановой Софье замужество, как окуню сахарная голова. Наверное, треть всего стрелецкого полка уже перебывала в жарких Софьиных объятьях. Да она сама не прочь была! Ни одного мужика не пропускала, первой сластолюбивицей слыла во всех посадах…
И вольно же было Степану мою ухмылку заметить! Он побагровел весь, как праздничный кушак у боярина Путятина, кулаки сжал и на меня вызверился.
– Ты что это, вражья душа, зубы скалишь? Что ты мне всё время поперёк горла становишься? Что ты смотришь на меня?
– Ух, какой воевода сыскался! – хмыкнул я. – Что тебе не нравится? Куда хочу, туда смотрю, и ты мне не указ!
– Плюнь, Яшка! – лениво посоветовал Матвей. – Что с него, с пьяного, взять?..
– Кто пьяный? Я пьяный? – возмутился Степан. – Да я тре... тревзее... тверзее... трез-вее вас всех! Ну, Яков, попомнишь у меня, лучше сразу домовину заказывай!..
Он вскочил, перегнулся через стол и схватил меня за грудки. До сих пор не пойму, почему он привязался именно ко мне. Наверно, понял мой взгляд и вспомнил своё трусливое бегство. А что ухмылка моя его осердила... Так ведь шила в мешке не утаишь, несомненно, знает, что его сестричка в девичьей горенке выделывает. Знает, да виду не подаёт. А я, выходит, за чужие грехи отвечать должен.
– А ну, не тронь его! – вскинулся Матвей. – Слышь, Степан, тебе говорю! Отстань от Яшки, а не то я тебе такую баню устрою, чихать смешаешься!..
Он замахнулся было на Стёпку, но я его локтем отодвинул.
– Стой, Матвей. Этому олуху от меня что-то понадобилось, не встревай. Сам справлюсь.
Недовольно ворча, Матюха опустился на лавку. Степана трясло, он зашёл слишком далеко, чтоб сейчас мирно разойтись. Потому сыпал бранью, в светлых глазах прыгала пьяная ярость, и по всему выходило, что прекратить это можно лишь одним способом – кулачным боем.
До поры до времени я его не трогал. Прав мой дружок – что с пьяного возьмёшь? Но Степан мёртвой хваткой вцепился в мою рубаху и посылал по матушке и меня, и стрелецкий полк, и всю Русь вместе с государем Иваном Васи... Тут Степан, правда, язык свой малость прикусил, но рубаху по-прежнему отпускать не собирался. Я драться не хотел. Ну его к лешему, ясно ведь, что это он сдуру отыграться на мне решил за свои заботы. Но куда там! Легче, наверное, Архангельский собор по камушку разнести, чем образумить Степана, когда он, упившись, желает кулаки почесать. Ладно, дружок! Отвести душу и мы не прочь.
На всякий случай я его предупредил в последний раз, чтоб отцепился и чужую одежду не портил. Но Стёпка советам не внял. Мало того, он всё неправильно понял и хрястнул мне по скуле так, что в ухе звон пошёл, словно большой колокол ударил. Ах ты, пьянь пакостная, вскипел я, ты на кого с кулаками лезешь? Думаешь, я терпеть стану?..
Я от души засветил Степану кулаком под глаз. Он выпустил наконец-то из рук ворот моей рубахи и закувыркался в дальний угол. Но тут же вскочил и заурчал, как кот, у которого из-под носа рыбу уводят.
– Яшка! – снова вскочил с лавки Матвей. – Остынь!.. А ну, Степан, сядь, не доводи до греха. Ещё драки не хватало!..
Остальные тоже оживились, кто-то даже попытался удержать Стёпку за рукав. Но тот пёр, как таран, и ничего вокруг не видел. Отмахнулся от всех и ко мне. Я встретил его приветливо – кулаком в зубы. Однако Степан на сей раз удержался на ногах и на моё приветствие ответил. Тут уж и я озлился по-настоящему. Раздухарились мы оба не на шутку, лупили друг дружку так, что треск стоял. Мужики сначала пробовали нас растащить в разные стороны, а потом махнули на это дело и решили просто любоваться на чужую потасовку.
– Э-эх! На-ка, получи!
– Ух ты! Во даёт! Яков, дави его!
– Держись, Стёпка! Софья твои синяки лечить не станет...
– Да что же вы, ироды, делаете? Убиться оба захотели? Стой!
– Оставь ты их, Матвей. Душу отведут и успокоятся...
Лавки вдоль стен так и летали, оба ближних стола мы давно уже своротили – кто-то из стрельцов едва успел подхватить жбан с медовухой. Веселились, на нас глядючи, все, кто был в кабаке. Пожалуй, кроме хозяина, тот забился в угол и по-бабьи причитал. Хорошо я его понимаю – стрельцы за убытки платить ни за что не станут...
Наконец я сшиб Стёпку с ног в очередной раз, и он затих где-то за перевёрнутым столом, угрюмо посапывая и вытирая рукавом кровь из носа и с разбитой губы. Я полюбовался на его заплывшую рожу. Отметин теперь у Степана много и надолго – пока ссадины сойдут... Ничего, в конце концов, это ему полезно, будет знать в другой раз, как ни с того ни с сего на людей кидаться. Да и у меня, наверное, вид не лучше... Рука у Степана тяжёлая, приложил так уж приложил. Счастье ещё, что дерётся он лишь по пьяному делу, а когда трезвый – трусоват. И никогда на моей памяти он не лез с кулаками ни на меня, ни на Матвея. Остерегался, верно, чёрт мохнорылый... А тут ишь, Илью Муромца из себя корчит! Не иначе, как медовуха во всём виновата.
Матвей протянул мне шапку, одёрнул рубаху и вроде как даже пылинку с моего плеча сдул. Заботливый. Правильно, что в драку не вмешался – я и сам кому угодно рожу начистить могу. Тем более Стёпке, раз уж у того засвербило...
– Вдарил ты ему не пожалев! – приговаривал Матюха, когда мы выходили из кабака под осенний дождь. – Когда ногой-то втюхал, видал, как он летел далёко?
– Плохо помню. Я сам тогда от его кулака в углу валялся...
– Не, добрая сшибка была! Бока ты Стёпке намял – будь здоров!
– Ладно, захвалишь. Вон у меня с челюстью что-то не то...
– Да леший с ней, с твоей челюстью! Заживёт. Погоди, я ему тоже скулу сворочу, чтоб наших помнил.
– Следующий раз – за тобой, – согласился я.
...Мы шли по московским улочкам и знать не знали, что меня ждёт из-за этой дурацкой потасовки в кабаке. А впрочем, если б знали – разве смогли бы мы что-нибудь изменить?..
******
Несправедлив мир бывает к человеку. Иной раз так хочется, чтоб всё сложилось ладно, и Бога просишь, бьёшь поклоны в церкви. А только сунешься на улицу – и снова какая-нибудь закавыка приключается, хоть не выходи из храма. В Бога я верую и, пока жив, веры не утрачу. Но был бы он иной раз милосерднее к нам, грешным...
Моя мать, выскочив замуж по любви, совершила грех при полном попустительстве родного батюшки. Корни пращуров считались боярскими, хотя я сильно подозреваю, что тут не обошлось без шалостей по бабьей части. Во всяком случае, к тому времени, как мой дед вступил в пору мужества, семья оказалась бедна донельзя и о прирастании богатства даже не помышляла. Были бы сыновья, тогда можно на что-то надеяться, а так... В супружестве у деда родилось трое детей, и все – девки. Великим честолюбием дед Афанасий никогда не отличался; когда дочери подросли, начал соображать, куда бы их пристроить, чтоб не в нищете жили. Но тут судьба по-своему решила. К старшей дочери – будущей маменьке моей – посватался один из местных торговцев, что в посаде обитали. Набрался храбрости и просватал девицу. Соседи – по большей части такие же захудалые бояре, но спесью раздувающиеся по причине знатной крови, – принялись судачить и возмущение высказывать. Да как же так, дескать, чтоб боярская дочь да за купчишку?.. Но дед Афанасий в их сторону плевать хотел, а кому надо больше всех – и кулаком пригрозил. Соседи недовольно поджали губы, но за глаза судачить продолжали.
Матушка моя, в девичестве тревожась за судьбу свою бесприданную, замуж вышла и думала, что жизнь её отныне будет как у людей – гладкой и спокойной. Всё же свой домишко, семья, заботы разные, но приятные... Чёрта лысого! Отца своего я вообще помнил плохо. В памяти остались лишь задубелые от работы руки да высокая мощная фигура. Помню ещё, как совсем карапузом я бежал к избе и кричал: “Тятька, тятька!..” А чего, спрашивается, тятька? Выпорол он меня, когда я так к отчему дому нёсся. А вот за что, уже не вспомнить. Натворил что-то, надо полагать... Ну, это бог с ним. В общем, мне шести лет не было, когда отца закололи копьём прямо на улице. В нашем посаде тогда мужики бунт подняли, торговые люди их поддержали, а власти, конечно, усмирить народ решили. И отец мой в чужую свару угодил. Мать рассказывала, что чудом жива осталась, мы с ней все дни, пока смута не прекратилась, в чьём-то погребе отсиживались. А потом куда матушке деваться? Про замужество больше и речи не шло, она взялась сама за моё воспитание, и за разные шалости влетало мне от неё здорово. Грамоте я выучился в монастыре, на этом обучение и закончилось, хотя мать очень надеялась, что я в монахи уйду...
У тёток моих тоже особой удачи в жизни не было. Дед Афанасий под старость совсем разошёлся. Раз старшая дочь пошла за худородного и соседи такую плюху стерпели – стало быть, продолжим в том же духе. Вторая дочь – Евдокия – вышла за поморского купца и уехала куда-то на Северную Двину. Вскоре муж её умер от лихорадки, но в Москву Евдокия не вернулась и осталась куковать свой век в тех краях. Третьей – Настасье – казалось, повезло больше. Её взял за себя один из новгородских бояр, так что жила она, в отличие от моей матушки, в роскоши, одеваясь не иначе как в парчу и шелка. Ну и что? Принесло ей это богатство покой и счастье? Как же...
Вы помните, наверно, какой шум поднялся, когда в 1570 году (я тогда уже в стрелецком полку служил) в Москве раскрыли заговор против государя. Не помните? Ну что вы, громкое дело было... Бояре – а когда им царская власть нравилась? – надумали снестись с польским королём Сигизмундом. Мол, Ивана Грозного в застенки упрячем, а на его место посадим князя Владимира Старицкого, мужа головастого. Не знаю уж, что у них там с этой затеей не вышло, перемудрили, вероятно... Когда заговор раскрылся, царя Ивана от злости едва кондратий не хватил – на моё место, гады, метите? Вот я вам ужо, паскуды... Скор он был на расправу, государь. Ну, зачинщиков, конечно, в оборот, Старицкого на дыбу, потом на плаху, прочих заговорщиков скоренько порубили. И уже собирались вздохнуть спокойно, как у государя новая задумка появилась. Не иначе как нашептал ему кто-то, а сам батюшка-царь эту затею за свою выдал. А впрочем, поди узнай – может, он и сам это обмыслил, ума-то у него всегда была палата... Ну, да ладно, суть не в том. В общем, царь брови нахмурил и речь повёл гневную. Нити заговора, дескать, ведут в Новгород, бояр там полно, затаились, злыдни, граница неподалёку, а Сигизмунд уже ногами сучит – так ему не терпится на русские земли влезть. Царю, как говорится, виднее. И двинули бравые полки вслед за государем Иваном Васильевичем в Новгород – тамошних бояр давить. Царь Иван, в отличие от заговорщиков, долго мудрить не стал. Кто там прав, кто не прав – пока разберёшь, умаешься. Взял и казнил всех виноватых вместе с невиновными. А в виноватые попал муж моей тётки Настасьи. Он, видите ли, в заговоре участвовал, когда, приезжая в Москву, пьянствовал с князем Старицким. Вот всегда у нас так – раз вместе пили, вместе и под топор пойдёте. На плаху, в смысле... А на то, что боярин про заговор слыхом не слыхивал, никто и смотреть не пожелал. Он и рта раскрыть не успел в своё оправдание, стража вмиг ухайдакала и его, и жену Настасью. Мать, узнав про смерть сестры, выла не по-хорошему, да куда там... Лихолетье, времена такие. Царь Иван дал добро, и пошла по Руси гулять опричнина, не церемонясь с тем, кто ей неугоден. В другой раз, коли захотите, я таких страстей могу нарассказывать – поджилки затрясутся! Чего только верные государевы слуги не творили... Так что, пока тебя не тронули, молчи, целее будешь. Лучше зажать свою беду в кулаке и не высовываться – не ровен час, задавят под горячую руку.
...В опричном стрелецком полку я прослужил два года. С матерью виделся нечасто – она по-прежнему обитала в посаде. Постарела, волосы сединой подёрнулись с той поры, как узнала про казнь сестры и её мужа. Пасла гусей и лён трепала – на это и жила. Соседи её уважали, а на мой стрелецкий кафтан смотрели с опаской. А почему – объяснять долго не надо. Матушка всем довольна была, об одном лишь печалилась: ни снохи, ни долгожданных внуков. А вот не было у меня лапушки! Казалось, жизнь впереди, успею ещё. Да и хотелось жену по сердцу найти, чтоб до гроба с ней – и всё как первый поцелуй. А нет такой – так и семьи не нужно…
На судьбу я не мог пожаловаться. До поры до времени всё складывалось удачно. Приятелей, ежели посчитать, с половину полка наберётся, а вот друг закадычный был один – Матвей, душа нараспашку и славный рубака. Приключений мы с ним всегда искали вместе, а ведь кто ищет, тот всегда... Что в пьянку, что в хмельную драку, что в сечу с недругом – с головой окунались оба. Поступить на службу в стрелецкий полк мне как раз Матвей и помог. Он тоже был отпрыском какой-то боярской семьи, но она, как и наша, со временем оскудела и растеряла былой почёт. Его дед сам, подобно холопам, обрабатывал свой клочок земли, и Матюха никогда не хвалился древностью рода. Подозреваю, что ему было вообще наплевать, каких он там кровей. На прошлое своих предков Матвей давно махнул рукой, в будущее заглядывать не собирался и жил сегодняшним днём. Горланил песни в веселье, мрачнел, когда грусть накатывала, и лез на рожон, стоило его задеть. Но справедлив был парень, ничего не скажешь, и рассудителен. И никаких тайн друг от друга у нас с ним не было. Если появлялась неподалёку пригожая девица, сразу договаривались, кто из нас за ней увиваться станет, чтоб без обиды. Если желающий помахать кулаками выискивался – всегда пожалуйста, мы от драки нипочём не откажемся. В случае чего – ну-ка, Матвей, подсоби! Да о чём речь... Я в долгу не оставался, по первому его зову бросался на выручку. В общем, горой мы стояли друг за дружку. Только вот, кажется, на этот раз влип я здорово, и помочь мне даже Матюха не в силах...
*********
Тучи нависли над Москвой, тёмные, низкие тучи. Глянешь, и кажется – так и норовят окутать сизой паклей купола церквей. Небо вот-вот грозило разродиться дождём, но всё что-то колебалось, словно выжидая – может, не стоит, а?.. Наступил плакун-ноябрь, скоро и первый снег выпадет. Воробьи, хохлясь, высматривали, чем бы поживиться. День с утра хмурился, ничего доброго не предвещая. Казалось, сама погода хотела мне посочувствовать, дескать, кончилось веселье, друг Яша, скоро на тебя такие заботы свалятся, что ой-ёй-ёй... Но я пока ничего о будущем не знал, не предугадывал.
Мы с Матвеем шатались в этот день по Китай-городу, заходили в лавки, в торговые ряды, рассматривали от нечего делать товары. Народ сновал туда-сюда, гам людской перекрывал порой зазывания торговцев. Мы смотрели, как движутся резные стрелки на часах, изготовленных руками московских и заморских часовников. Разглядывали крестьянские возы, заполненные рожью, овощами и невыделанными бычьими шкурами. Крестьяне, лихо заламывая суконные шапки, торговались с покупателями – рожь нынче возросла в цене. Английские купцы неподалёку предлагали добротные сукна, монеты золотые, вино, что так заманчиво плещется в бочонках. Дальше пройдёшь по рядам – купцы с Востока со своими товарами расположились. Лопочут не чисто по-русски, но всё же понятно. Одного мы послушали, головами сочувственно покачали и оставили дальше горланить. Товары у азиатов пёстрые – шелка, персидский сафьян, краски в скляночках, какая-то чёрная маслянистая жидкость, которую они называют чудно и непонятно – нефть... У ряда с восточными тканями мы остановились – зрелище было любопытное. Некая сильно нарумяненная боярыня как вцепилась в яркий ворох шелков, так и оторваться сил не имеет, гладит, растягивает – и так-то, и так-то, чуть носом ткань не клюёт. Но нам с Матвеем до боярыни дела не было, мы уставились на её дочку-невесту. Из-под парчовой шапочки извивалась льняная коса, перевитая лентой красного шёлка. И сама девица такая милая была, что глаз не оторвёшь. Она наши взгляды приметила, скромно потупилась. Мы с Матвеем перемигнуться не успели, как рядом оказались двое из боярской челяди. Оба так на нас зыркнули, что мы враз поняли – ничего с этой прелестницей не выйдет. Дружно вздохнули и дальше пошли.
В хлебных рядах у знакомого пирожника сторговали пару пирогов с грибами, запили квасом, стало ещё веселее. Однако Матвею кваса мало показалось, пресный, дескать. Он завёл речь о том, что не мешало бы аглицкого вина отведать, говорят, вкусное – не оторваться. Я разве против? Вино так вино. Мы отправились назад, к рядам иноземных купцов. По дороге приглядели сафьяновые сапоги у мастера-сапожника. Он несколько пар нам на выбор выставил... Всё, что было, попримеряли и не поняли – не то сапожки для ребятни пошиты, не то лапы у нас такие огромные. Не подошла обувка.
Заглянули в лавку, где меха продают. Но там какие-то узкоглазые и краснобородые перекупщики торговались почём зря, зарывая руки в роскошные меха чернобурки и соболя. Они яростно бранились с русским продавцом и друг дружку, кажется, отлично понимали, хоть речь была и не нашенская. А английские купцы – легки на помине! – приценивались неподалёку к пеньке и воску...
В общем, до заморского вина добраться мы не успели. Впереди, выпятив животы, важно двигались два боярина, рукава их кафтанов землю подметали. Соболевые шапки и высокие воротники покачивались, закрывая весь обзор.
– Толкнуть бы этих мудрил в зад, – буркнул недовольно Матвей, – чтоб ноги быстрее передвигали. У меня в горле пересохло, так вина хочу...
Бояре загородили дорогу в самом узком месте – кругом возы, прилавки, не протолкнёшься, не обгонишь. Ничего вокруг они не замечали, вели беседу степенно, друг другу на жизнь жаловались. Мы, сглатывая слюну, поневоле семенили за толстопузыми.
– И вот, Евсей Иваныч, батюшка, уж так который год, – говорил один из них, одетый в тёмно-зелёный кафтан. – Толку от вотчины всё меньше и меньше, хлеб никак не уродится. Хоть руки на себя накладывай!
– Убытки, одни убытки, – горестно поддакнул второй боярин. Однако сомневаюсь, что он, печали преисполнясь, с жизнью расстаться захотел бы. Такие сами в гроб не ложатся, загонишь их туда, как же!..
– Не говори... А чернь, ты бы знал, до чего обнаглела! И оброк, и тягло, – отказываются платить, и что ты будешь делать! Всё понимаю, денег у них нет, хрен на постном масле, и тот кончился. Но...
– Да у тебя, драгоценнейший мой, ещё полбеды, – перебил его собеседник. – У тебя платить отказываются... Эка невидаль! Мои вообще ушкандыбали!..
– Это как? – опешил первый.
– А просто! Вожжа им, что ли, под хвост попала, не знаю... Не все, конечно, ушли. Но дворов пять снялись с мест и покинули меня, горемычного. Побросали на телеги свои пожитки, и дёру! И ведь, понимаешь, драгоценнейший мой, им нынче и Судебник не указ!
– Беда-а... Да куда ж они подались-то?
– А почём я знаю? Пошли новые земли обживать, наверное...
– Э, Евсей Иваныч, это что же получается? Просто так взял и своих холопов отпустил? А законы?
– Так я о чём и толкую! Ты, кричат, нас догони со своим Судебником, вот тогда законы в нос и тычь... Ещё и живоглотом на прощанье обозвали.
– Да как же это... Надо в Земском соборе о подобном заявить, чтоб от хозяев бегать не смели...
– Фу ты, – шепнул Матвей мне на ухо. – Холопы от него ушли, великая беда приключилась! Да он новых вмиг наберёт, в Судебник статью вставит и закабалит их пуще прежнего. Мало, видать, государевы опричники по боярским спинам ездили...
Я хотел Матюхе возразить, что для холопов особой разницы нет, под кем гнуться – под боярами ли, под опричниной ли, всё равно сплошная неволя. Однако рта раскрыть не успел. Кто-то толкнул меня в бок – грубо так, про “нечаянно” и речи нет. Я оглянулся – кому в Китай-городе до того тесно, что прохожих задевает? А когда увидел обидчика, губы сами собой скривились в презрительной усмешке. Степан! Ну, этому места под солнцем всегда было мало... После той нашей потасовки в кабаке прошло несколько дней. Стёпку я с тех пор не видел, похоже, он старался не попадаться мне на глаза. А тут – надо же, осмелел!... И здесь он был не один, а с двумя дружками; тоже стрельцы, но не из наших. Принять на грудь все трое уже успели изрядно – это было видно: рожи красные, глаза к носу, а трезвых так не шатает... Троица ехидно ухмылялась, глядя на нас с Матвеем, и, вероятно, не прочь была затеять свару.
– Потешим душу? – тихо предложил мне Матюха. – Пусть потом зубы считают.
Я прищурился.
– Можно бы... Мы, конечно, их повалим. Но неужели Стёпке тогда мало оказалось, что добавки просит?
– Эй, Яшка! – крикнул Степан, выгнув грудь колесом. – А я ведь не забыл драки-то нашей... Погоди, плохо тебе, оглоеду, скоро придётся, помянешь моё слово!
– Ты что, угрожаешь мне? – удивился я. – Сначала подожди, пока короста с рыла слезет. Вот тогда и вякай.
– Посмотрю я, как ты на дыбе вякать станешь, – в голосе Степана появилось нечто такое, что у меня невольно мороз прошёл по коже. – Там тебе язычок быстро развяжут, только не обрадуешься...
– Да ты, я смотрю, бодливый стал! – возмутился Матвей. – Давно рога не обламывали? Погоди, это мы мигом!.. И про какую ещё дыбу ты бормочешь?
– А то не знаешь? Про ту, на коей суставы выворачивают. А будешь лезть не в своё дело – там же окажешься, понял?
– Пугать вздумал?..
Народ, вокруг сновавший, начал прислушиваться к нашей перебранке. Но толпа собираться не спешила. Дыбы на Руси опасаются, дыба – штука страсть неприятная. А там, где упоминают это слово, лучше не задерживаться. Идёшь своей дорогой мимо – ну, и проходи быстрей. Не ровен час, тоже на орехи получишь.
Угрозы Стёпки меня насторожили, но не испугали. Нашёл чем стращать, остолоп! То, что нынче можно под дыбу подвести любого, я, конечно, знал. Но для этого ещё нужно вину сыскать. А что такого Степан может наболтать, чтоб меня заколодили? Службу свою несу исправно, ни воеводе, никому из дворян-опричников поперёк не становился. И, насколько знаю, на меня лишь один Степан зуб точит. Ещё посмотрим, кто кого!..
– Тебя сейчас отметелить или потом, когда ты десятерых на помощь позовёшь? – полюбопытствовал я у Стёпки. Но тот лишь надулся, как лягушка, отступил на шаг поближе к дружкам и крикнул неуверенно:
– Да мне об тебя и руки пачкать неохота! Считай, что ты уже покойник, вот только кто тебя отпевать возьмётся – не знаю! С государевыми преступниками шутки шутить не любят...
Он круто развернулся и пошёл прочь, скрываясь, однако, за своими приятелями. Мы с Матюхой не кинулись ему вслед. Мы стояли, вытаращившись, с отвисшими челюстями.
Чего-чего? Государев преступник?.. Я?! Это что-то новенькое...
– Что он сказал? – повернулся я к Матвею. – В чём он меня обвинил?
Тот с досадой пожал плечами.
– Не понял. Что-то про измену государю.
– Да я ни сном ни духом...
– Знаю. Проведать бы только, что ты такое натворил, что тебя за дыбу сватают.
– Так ведь...
– Да я-то понимаю, – перебил меня Матюха. – Ну-ка, вспоминай, к чему там можно прицепиться. По пьянке батюшку-царя матом крыл?
– Да вроде нет...
– Прилюдно бояр опальных жалел?
– Ты что?..
– Может, сдуру каялся когда-нибудь, что в опричники пошёл?
– Да что я, рехнулся, что ли?
– Ну, тогда не знаю, – Матюха горестно вздохнул. – Только такие обвинения на пустом месте не родятся. Стёпка подлец, конечно, но не совсем же олух, чтоб на тебя подобную напраслину возводить. Вот мне и любо вызнать бы, что он там ещё придумал...
Мы понуро молчали. Тут и дождик подоспел. Он сначала закапал, потом струи окрепли, забарабанили по навесам и прилавкам, по моим плечам. А я стоял дурак дураком, придавленный чувством растерянности, и мучительно пытался сообразить – что же я такого натворил, что меня записали в государевы преступники? Может, и правда, где-нибудь что-то не то ляпнул?..
*********
Всё оказалось гораздо хуже, чем я предполагал. Наверное, у Степана нашлись кое-какие знакомцы, которые сумели протолкнуть его поклёп куда следует и выдать бредни за достоверные сведения. Так или иначе, но уже на другой день судьба твёрдо решила показать мне, что значит её немилость.
Я нёс караул на Красном крыльце у Грановитой палаты. По всем трём лестницам топтались подъячие с бумагами, а также отпрыски боярских семей – мудрецы, успевшие понять, где жизнь слаще, и перешедшие в опричнину. Не любил я их рожи – наглые глаза, закаменевшие в сытости и безнаказанности лица. Далее, внизу у лестниц народ толпился, многие с прошениями, с челобитными. А у средней лестницы какой-то дьяк драл глотку, выкрикивая решение по очередной жалобе. Шумно было... В этот день из-за туч вылезло солнышко, наверное, вспомнило про свои обязанности и решило обогреть осеннюю Москву. Я лениво щурился под его лучами и поэтому проморгал тот миг, когда на крыльцо взлетел Матюха. Но, взглянув на его встревоженное лицо, понял – неприятности не за горами. А лихорадочный шёпот друга вообще поверг меня в остолбенение.
– Приставы идут!
– Ну и что?
– Дурак!.. С ними наш капитан! Тебя ищут! Беги скорей отсюда!
– Да... как же... куда же бежать? – растерялся я. – Очумел совсем? Караул бросать прикажешь? Даже неизвестно, в чём дело-то!.. Может, им спросить что-нибудь надо...
– Ой, дубина-а! – простонал Матвей. Зыркнул через плечо и зашипел снова. – Спросят его, ага... В Разбойном приказе, вишь, забыли, как пищаль заряжается. Ты назначен докой по этой части... Что стоишь, пялишься? Помнишь, чем Стёпка вчера грозился? По твою душу пришли, я же слышал! Ну?.. Уходи, Яшка, друг, уходи!..
От его отчаянного шёпота меня зазнобило. Потом внутри что-то тоненько тенькнуло, обрываясь. Неужели в самом деле... Неужто всё, что выкрикивал вчера Стёпка в Китай-городе, не злая шутка, а пугающая правда?
Я кинул затравленный взгляд на площадь. Уходить!.. По Передним переходам к Постельному крыльцу, там затеряться в толпе... Или к Благовещенскому собору? Главное, смыться с Красного крыльца, где я как на ладошке... Но не успел и дёрнуться, как по Главной лестнице резво взбежали три фигуры – капитан Рыков, а за ним два дюжих мужика в казённых кафтанах, с оружием в руках. Рыков, привалясь к резным перилам, мотнул подбородком в мою сторону. Матвей неуверенно замер чуть поодаль. Один из приставов, тяжело бухая сапогами по плитам, шагнул ко мне.
– Ты Леонтьев будешь?
Влип. Но надо, Яша, отвечать.
– Ну, я... А что такое?
Пристав неучтиво шмыгнул носом.
– Дак Леонтьев, значит?
– Сказал же, чего ещё?
– Вот и ладушки... Живо за нами!
– Зачем это?..
– Там узнаешь. Ты бердыш-то свой сдай... Ну?
Пристав явно не шутил. Зубоскалить мне разом расхотелось. В глазах Матвея стоял тревожный вопрос, когда я молча сунул ему в руки оружие.
Меня вывели с лестницы вниз, туда, где шумела толпа. У подклетов мелькали удивлённые лица стрельцов. Народ переговаривался – кто недоумённо, кто испуганно.
– Это чево такое?..
– Непонятно как-то...
– Что тебе, дурень, непонятно? Вишь, ещё одного сцапали!
– На правёж стрельца ведут...
Приставы резво пробирались сквозь расступившуюся толпу, не забывая зажимать меня плечами. Не знаю, кому как, а мне это всё больше не нравилось. Захомутали ни за что ни про что, ведут, как взаправдашнего лиходея…
– Да что стряслось-то? – не выдержал я наконец, когда мы оказались там, где посвободнее. – Куда вы меня тащите?
– Сказано тебе, там узнаешь.
– Что-то вы, мужики, не больно разговорчивы...
– Молчать!!
Ух ты! Как рявкнул! Молчать, значит... Ладно.
Мы дружно топали по Ивановской площади и со стороны, вероятно, походили на приятелей, решивших погулять на славу. Вот только направлялись мы явно не в кабак, а в сторону зданий приказов. А там, насколько мне известно, кабаки другого рода... Лица моих провожатых были бесстрастны, бороды деловито торчали вперёд. Близнецы, мать вашу!.. Я мрачно раздумывал о том, что меня ждёт. Вырваться бы да задать стрекача через всю площадь, тут тоже народу немало. Вон какой-то холоп боярских лошадей стережёт. Вскочить на ближайшего коня, а потом верхами до Никольской... Я глянул вправо, на сверкающие кресты куполов Архангельского собора. Потом покосился на одного из приставов, получил в ответ многообещающий взгляд. Нет, не выйдет. Эти двое вмиг догонят и отдубасят за милую душу так, что потом еле ноги передвигать сумеешь. Какой уж там побег... Впрочем, я не терял надежды, что всё разъяснится само собой.
Матвей оказался прав – меня привели в Разбойный приказ, туда, где разбирались противоправные дела. Ворота закрылись за спиной с мерзким скрежетом, словно издевались. Один из приставов, тот, что приказывал заткнуться, небрежно толкнул меня в тёмный проход с низкими потолками. На пороге я споткнулся и чуть не упал, за что сейчас же получил затрещину. Ах ты!.. Но при взгляде на оружие пристава злобу пришлось сдержать. Подожди, образина, я тебе устрою шуточку! Попозже... Сопровождаемый сопением бородатого, я преодолел несколько поворотов и очутился в невеликой хоромине. Её слабо освещали те редкие солнечные лучи, которые смогли пробиться сквозь плотную решётку окна.
Здесь уютом и не пахло. Окно, как я уже сказал, было забрано решёткой, к тому же из него открывался унылый вид на окованный медью высокий забор. Прямо напротив дверей стоял дубовый стол. За ним торчал какой-то чинуша с печально поникшим прыщавым носом и куцей бородкой. Весь облик его говорил о том, что жизнь – штука паскудная, а для меня особенно. Он вопросительно уставился в мою сторону выцветшими глазами. В углу, за столом ясеневого дерева я узрел второго мужичка, помоложе. Тот, напротив, очень оживился, поправил съехавшую на ухо серую шапочку, сразу же ухватился за перо и выжидательно замер.
– Это кто? – озадачился прыщавый.
Пристав икнул.
– Дак это... Сами же велели стрельца доставить, – удивлённо пробасил он. – Вот... Доставили. Как велено.
– А-а, – прыщавый откашлялся. – Ну, ладно... Ты... как тебя там... Сделал дело и вали теперь отсюда.
Пристав снова икнул, разочарованно шмыгнул носом – не знаю, может, он ожидал, что за такой подвиг его к награде приставят? – и исчез за дверью. Я неприязненно рассматривал чинуш. Ну, прыщавый, ясное дело, приказной дьяк, значит, будет допрос вести. Ага... А тот олух в шапочке, стало быть, писец, из подъячих. Сейчас как задавят вопросами, вдвоём-то! Сесть мне, конечно, никто не предложил, хотя у дальней стены, там, где угол затянул упругий слой паутины, стояла лавка. Ничего, мы люди неприхотливые, постоим...
– Имя твоё? – осведомился дьяк.
Я молчал.
– Зовут тебя как, голубь?
Перо зависло в пальцах подъячего, как вопросительный знак. Где-то под окном взмурявкнула кошка. На хвост ей, что ли, наступили, подумал я, вздохнул и начал тоскливо пялиться на потолок.
– Упорствует? – задумчиво предположил дьяк, вздыбив пятернёй свою куцую бородёнку.
– Глухой, быть может, – угодливо откликнулся писец. Он проворно выметнулся из-за стола, просеменил по горнице и, будучи невеликого росточку, снизу вверх заглянул в моё лицо. Я смерил гада мрачным взглядом и едва удержался, чтоб не сунуть ему в рожу кулаком.
– Ты что-нибудь слышишь? – участливо спросил коротышка.
Я снисходительно кивнул. Из-за дубового стола донёсся вздох облегчения.
– Ну, вот, я же говорю, упорствует. А ну, стрелец, подойди ближе.
Я отстранил подъячего, чтоб не путался под ногами, и шагнул к столу. Коротышка на моё непочтение не осерчал. Он в тот же миг оказался на своём прежнем месте, за столом, и вновь уцепился за перо.
– Имя твоё как? – возобновил допрос дьяк.
Я обречённо молчал. На рябом лбу допросчика залегли морщины сомнения. Наверное, он заподозрил, что моё законное место не в стрелецком полку, а в тёплой ватажке юродивых у храма. А потому решил беседовать иначе.
– Ты будешь говорить или нет? – заорал он так, что писец подскочил в своём углу и шапочка его сползла на другое ухо. – Что молчишь?
– Мне молчать советовали, – буркнул я.
– Кто? Заединщик?
– Наверно.
– То есть как – наверно?.. Кто такой?
– Как зовут, не знаю. Из ваших приставов.
– Че...чего?
– С бородой.
Чинуши обменялись тревожными взглядами. Подъячий вонзил в перо свои мышиные зубы.
– Так ведь они того... Оба с бородами.
– Того, этого! – зло передразнил его прыщавый. – Под носом злодей ходит, а ты не видишь!.. Эй, как тебя там... стрелец! Который из тех двоих заединщик твой?
– Пошутил я, ладно.
– Пошутил?!
– А что, нельзя?... Дурень ваш пристав, и борода у него приклеенная, – я устало вздохнул.
– Да ты... – дьяк в ярости обмер. На какое-то время под сводами повисла недоумённая тишина. Потом на допросчика вдруг напал удушливый кашель, так что бедолага долго тряс бородёнкой и хватался за горло. Кое-как отдышавшись, он пошёл по третьему кругу.
– Зовут тебя как, остолоп?
На «остолопа» я решил не обижаться.
– Яков, – говорю смиренно. – По батюшке Леонтьев.
– Ага!
Что «ага»? Похоже, угодил я ответом-то своим... Писец торопливо заводил пером по бумаге.
– Лет сколько?
– Батюшке? Он помер давно.
– Тебе, вражина! – взревел допросчик, а я подавил невольный смешок. Так хотелось повалять дурака...
– Двадцать третий пошёл...
– Так. Служишь в стрелецком полку?
– А как вы догадались?
– Не дерзи!..
Тьфу ты, пропасть! А что отвечать, если глупости спрашивают? За кем же он, умник эдакий, посылал своего бородатого пристава, как не за стрельцом Леонтьевым? Что ж теперь допытываться? Хотя, возможно, у них так заведено... Честно говоря, я и не думал прикидываться олухом, просто хотелось перебороть издёвкой неприятный холодок, который гулял где-то внутри. Мысли о будущем, как я их ни гнал, колотились в висках настойчиво. А вдруг и вправду дойдёт дело до дыбы?
Но за что?..
Дьяк снова прокашлялся, опустил вяло сжатые кулаки на столешницу и уткнулся глазами в моё лицо.
– В преступных сговорах против государя участвовал?
Теперь пришла моя очередь давиться.
– В как-ких с-с... сговорах?
– В преступных, – терпеливо повторил дьяк.
– А надо было?
– Ты что, дурака из меня решил сделать? – взорвался допросчик, и его желтоватое лицо вмиг побагровело. Но я был настолько ошарашен предыдущим вопросом, что мог лишь растерянно повторить:
– А надо?
Из угла донеслись слабые всхлипы. Подъячий веселился до тех пор, пока его начальник в ярости не ударил ладонью по столу. Хрюканье оборвалось, но какое-то время писец издавал полузадушенный писк, не в силах справиться с весельем.
А вот мне уже смешно не было.
– Я тебя сызнова спрашиваю, – просипел дьяк. – Затевал ты преступные сговоры против государя?
– Нет.
– Чем докажешь?
«Вмазать бы тебе, дубина», – хмуро подумал я. Ну чем, скажите, доказывать свою невиновность? Тем паче, невиновность в каких-то там сговорах. А ведь они ответа ждут. Вон писец из-за своего стола таращится. Дьяк тоже смотрит въедливо, каждый мой вздох ловит. Придётся что-то придумывать, тянуть, оправдываться... Ну, коли это Стёпка, сукин сын, мне так подусобил, то быть ему битым. Ежели, конечно, я отсюда выйду.
– Чем докажешь? – повторил дьяк.
– А вы чем докажете?
– Что?
– Ну, чем вы докажете, что я сговоры против государя затевал? – я с каким-то болезненным любопытством уставился на прыщавого. На-ка, выкуси!.. Тот поводил бородёнкой, метнул косой взгляд на подъячего, держащего перо наизготовку, и хмыкнул.
– А я, парень, ничего доказывать не собираюсь. Боярин Зарецкий тебе родня?
Так вот откуда ветер дует!
– Ну... родня, – мой голос враз охрип. – Он женат был на моей тётке.
– В Москву приезжая, он с тобой виделся?
– Да...
Было дело... Теперь я всё понял. Как-то, года полтора назад я столкнулся на Постельном крыльце с двумя боярами. Одного узнал сразу – это был князь Старицкий, тот самый, которого впоследствии казнили как притязателя на престол. Второй... Второй оказался моим дядькой. Народу как всегда, на крыльце толкалось немало, кто ссоры искал, кто справедливости, кто просто так – на людей посмотреть, себя, как водится... В общем, шум, гам и суета привычная. Бояре, судя по всему, дожидались, когда их в царские покои пустят. Старицкий был хмур, осматривался неприязненно – кругом опричники, а на бояр в то время охота была в самом разгаре. Зарецкий, дядька мой, тоже выглядел озабоченным. Но, будучи человеком не по-боярски простым, похлопал меня по плечу – вот, мол, где довелось с племяшом свидеться! – передал привет от тётки Настасьи, спросил про мать. И ведь всего несколько минут мы с ним потолковали, а вот глянь-ка, всплыл разговор тот... Помнится, Степан тогда там в карауле стоял и долго потом допытывался, кто этот боярин и как его имя. Значит, не забыл, сукин сын, не забыл и припомнил. И до чего ловко всё связал, подлец!.. Я почувствовал, как сразу взмокла шея под жёстким воротником кафтана.
– Что ж растерялся, стрелец? – притворно-ласково окликнул меня прыщавый. – Значит, признаёшь, что встречался в Москве с боярином Зарецким?
– Признаю, – глухо подтвердил я.
– А знал ли ты, голубь, что боярин был в сговоре против государя-царя?
– Не знал.
– Ой ли? Известно тебе, что боярин Зарецкий казнён был вместе с жёнкой своей в Новгороде как заговорщик?
– Известно.
– Любопытно получается, стрелец, – вздохнул дьяк и снова взлохматил свою бородёнку. – То, что Зарецкий казнён как заговорщик, ты знаешь. А о том, что он в заговоре стоял, ты не слышал. Это как?..
– А вот так! – разозлился я. – Кто вам вообще сказал, что боярин был заговорщиком? Ни в каких сговорах он не...
Выпалил и оборвал себя. И почувствовал, что не надо было про это говорить, зря я брякнул, что, мол, дядька-то... Ему уже не помочь, а вот себе навредить могу здорово.
И точно – прыщавый сразу подобрался, вытянул шею и всверлился в меня блёклыми глазами.
– А почём ты знаешь, что он не участвовал?
Я устало пожал плечами. Знаю и всё. Не такой человек был боярин Зарецкий, чтоб идти супротив государя. В Москву он приезжал часто, не упускал случая наведаться в посад к свояченице, помогал чем мог, чураясь боярской спеси. Не дурак был выпить, похохотать и иной раз потискать молодых крестьяночек. Опричнину хулил, это верно, но царя Ивана чтил и всегда повторял, что царёва власть на века, потому что от Бога дадена. А идти, мол, поперёк него – богопротивное дело. Но разве этим чинушам втолкуешь?..
– Молчишь, значит, – задумчиво протянул допросчик. – Ну-ну, молчи... Поглядим, как ты на дыбе молчать станешь.
– Да чего говорить-то?
– Ты, Леонтьев, не юли. Признайся сразу, что о заговоре Старицкого знал и пособствовал ему.
– Чего? – искренне удивился я. Вот это лихо! Оказывается, я ещё и к заговору был причастен. Эдак меня скоро сделают главным заговорщиком, куда там Старицкому... Иди потом доказывай, что ты тут не ни ухом ни рылом.
– Запираешься, парень, – снова притворно вздохнул прыщавый. – Я тебе, голубь, по-дружески советую – признайся сразу, душу облегчишь. Всё равно всю подноготную вызнаем.
– Да не в чем мне сознаваться! – с отчаянием выдохнул я. – В сговорах не повинен, за дядьку не ответчик! Что вы ко мне привязались?..
Прыщавый нехорошо ухмыльнулся.
– Привязались? Не-ет, стрелец! Это ещё не привязались, так, беседуем мирно. А вот завтра разговор уже серьёзный пойдёт. Ты ночку посиди, подумай хорошенько... Может, что и вспомнишь. Очень советую... по-дружески опять же. Дыба – она, знаешь, языки быстро развязывает.
Он кликнул пристава. Тот вмиг появился в дверях, словно подслушивал. От одного вида его суконного кафтана меня замутило.
– Отведёшь стрельца в темницу, – распорядился дьяк. – Или нет... Погоди... Ну-ка, подойди сюда.
Пристав доверчиво подошёл. Прыщавый оглядел его с ног до головы подозрительно.
– Ты с этим голубем знаком?
– С каким? – пристав недоумённо вскинул глаза. А я отвёл ехидно взгляд в сторону – так-то, любезный, будешь знать, как на людей рявкать! Забавно было думать, что дюжего пристава могут записать в мои предполагаемые сообщники. Ничего, отбрешется...
– Вот с этим, – дьяк кивнул в мою сторону.
– Дак... Не знаю... За ним же посылали.
– А ты его раньше знал?
– Откуда? – обиженно прогудел тот. – Дела мне больше нет.
– А чего же он тогда на тебя указывал?
– Где?..
– Тут! В допросной! Подожди-ка, голубь...
Прыщавый выкинул руку и сноровисто дёрнул пристава за бороду. Тот взвыл и отпрянул. Дьяк озадаченно посмотрел на выдранный клочок пегой поросли.
– Настоящая... А чего ж он тогда...
– Так сказал же – шутка, – хихикнул из своего угла писец.
Пристав свирепо взглянул на меня. Я поёжился. Пусть только попробует замахнуться – я ему... А что я ему?
Зато дьяк как-то враз успокоился, даже вздохнул облегчённо.
– Ладно, веди голубя в темницу. Да смотри у меня...
Наверное, пристав так и не понял, куда ему смотреть. Он молча сопроводил меня вниз по лестнице, толкнул куда-то в темноту. Я сделал несколько неуверенных шагов и услышал, как грохнула, закрываясь, дверь за моей спиной.
Попался ты, голубь... Влип!!
Даже осматриваться не хотелось. Ну его к дьяволу! Тем более что и захочешь – ничего не увидишь. Ни светильника, ни лучинки – кромешный мрак. Я ощупью нашарил у стены охапку соломы, понуро сел и уткнулся лбом в колени.
...Ну, что за жизнь! Надо же было нам со Степаном схлестнуться в кабаке, надо же было ему сейчас припомнить боярина Зарецкого... На дворе уже стемнело, где-то далеко запел перезвон церковных колоколов. Я перекрестился, думая о своём. Ночь – она бы-ыстро пролетит... А утром? Ох, господи, лучше и не вспоминать! Вот скинут завтра с меня кафтан и рубаху, потом за вывернутые руки вздёрнут на дыбу, и пойдет весёлая беседа. Я так ярко представил, как трещат, выламываясь из суставов, мои кости, что аж вздрогнул. Ой, худо будет, худо! И помочь тебе, стрелец, никто не сможет. Некому помогать-то... Ни за грош, считай, пропал...
– Яшка! Яков...
Меня бросило в жар. Всё, готово дело! Спятил. А может, ещё не спятил?.. Да, но потусторонние голоса... Не иначе, как погибший дядька с того света почуял, что мне туго приходится, и решил дать жизненный совет.
– Яшка! Оглох, что ли? Отзовись, балда...
Ничего себе словечки у боярина! Я завертел головой по сторонам. Наверное, покойник решил поддержать племянничка таким образом. А как дать понять, что я его слышу? К тому же с духами надо быть повежливее, они, говорят, обидчивы. Чуть что не по ним – выть начинают.
– Вечер добрый, как здоровье у тётки Настасьи?..
Не знаю, может, я не так начал? Дух от неожиданности заткнулся. Потом зашипел зло и отчаянно:
– Яков! Рехнулся, что ли? Никак, тебе последний ум отшибли? Рожу-то кверху подыми, зануда!
Я озадаченно наморщил лоб. Нет, что-то сомнительно, чтоб боярин Зарецкий так при жизни выражался. А в то, что его подобному общению научили уже на том свете, очень слабо верится. К тому же голос, хоть и придушенный, здорово напоминает...
– Матвей! Неужто ты?
Как же я забыл про друга? Не знаю уж, сумеет ли он вытянуть меня из этой переделки, но вспомнил же, пробрался, нашёл как-то... Матюха!
До моих ушей долетел едва слышный вздох облегчения.
– Ну, узнал, слава богу! Ору, ору тебе... Ты как там?
– Пока живой... А ты где вообще?
– Слушай, они тебя не били? – внезапно озаботился Матвей. – Что-то ты мне не нравишься.
– Это почему?
– Дурной какой-то.
Я даже обиделся.
– Ты на моём месте окажись, тогда посмотрю я, каким станешь... Слышь, Матвей? Меня в заговоре обвиняют... Да где ты есть-то?
– Так говорю же – голову подними. Видишь?
Сначала я ничего не углядел, несмотря на то, что не только голову задрал, но и на цыпочки приподнялся. Потом, присмотревшись, различил крошечное зарешёченное окно под самым потолком. Днём оно, вероятно, ещё пропускало какую-то долю света, но вечером... А сейчас на дворе, конечно, уже давно стоял вечер – осенью в Москве темнеет рано.
– Ты как туда попал? – удивился я. Здание приказа было обнесено плотным забором. Мало того, что забором – ещё и сторожа ходили.
Но Матвей на мой вопрос только хмыкнул.
– Как попал – моя забота... Говоришь, в сговоре обвиняют? В каком?
– В том самом. Будто бы на государя хулу возводил... Князя Старицкого, мол, царём видел.
– Ах, вот в чём дело!.. В одну упряжку с покойным дядькой запрягли, да?
– Ну...
– Это Степан, подлюга, провернул, не иначе!
Я уныло молчал. Меня вдруг охватила смертная тоска.
– Убью гада! – зло пообещал Матвей. Помолчал мгновение и снова зашептал:
– Яшка, слышь!.. Дыбой грозятся?
– Завтра обещались...
– У, звери!.. Ладно, хрен им будет, а не дыба. Ты как там?
– Да так... Хороводы не вожу.
– Было бы с кем, – хохотнул он. – Ты это... Ты не раскисай, смотри. Я что-нибудь придумаю.
– Ага, – равнодушно согласился я. Легко ему говорить! Конечно, я никак не желал другу такой же участи. Вот только он там, наверху, а я сижу здесь, в этой крысиной норе, насквозь провонявшей запахом гнилой соломы и ещё чем-то кислым... И холодно тут. Ч-чёрт! Я только сейчас осознал, как пробирает меня озноб – до последней косточки! От холода?... Или от потаённого страха?
При последней мысли я совсем сник.
– Ночь длинная, – просвистел сверху голос Матюхи. – Я не я буду, а выйдешь ты отсюда, Яшка! Выйдешь!
– Выйду... Вынесут! Вперёд ногами!
– Э, да ты сдаёшь, парень! Совсем плохо?..
– Держусь...
– Вот и держись! А Стёпку я порешу! Сам сдохну, а порешу! Ну, жди...
Я буркнул что-то невразумительное. Голос Матвея стих, шагов его я даже не услышал. И вдруг так отчётливо осознал разницу между ним и мною!.. Вернее, разницу между свободой Матюхи и своей неволей – так ярко ощутил я это, что в горле застрял комок. Вот ещё новости! Что я – девица какая-нибудь, чтоб проливать горькие слёзы над своею судьбой-кручиной? Того гляди, раскисну совсем – недаром же Матвей заметил.
Нет, дудки! Я вам не чёрт-те кто! Я государев стрелец!
Государев... Вот судьбы изломы, а? За государя всегда голову был готов положить, преданный, как собака... Дурак! Как раз теперь-то ты её, голову свою, и сложишь... За государя.
Я в ярости ударил кулаком по бугристой каменной стене так, что содрал до крови костяшки. А-а, пропади всё пропадом! Надеяться на Матюху? Ладно, будем надеяться. На него и на Бога – ведь не может же быть, чтоб умерла, совсем умерла справедливость на свете! А если нет её... А если нет? Ну, тогда, выходит, такая моя планида – придётся подыхать. И зароют меня где-нибудь, как ту самую собаку... что перестала быть преданной.
А может, ещё и не зароют, просто так я вам не сдамся!
Катились мгновения, стекались в часы. Хотелось верить, что Матвей действительно поможет, да только не было этой веры. Вытащить из темницы человека, обвиняемого в преступном сговоре – это вам не чашу медовухи выхлебать. На душе теплело при воспоминании о друге, но сердце всё равно замирало ледышкой. Нет, ничем не поможет, не сумеет помочь мне Матюха...
От нечего делать я ощупал стены в поисках какого-нибудь выхода. Тщетно. Дверей, кроме той, через которую я сюда попал, не было. А её лбом не прошибёшь, будь этот лоб у тебя хоть дубовый. На полу нет ничего, хотя бы отдалённо напоминающего оружие. Ну, верно, так тебе его тут и оставят, голубь!.. (Вот же привязалось любимое словечко приказного дьяка, будь он неладен!) Так, а что у нас выше?.. Я попытался допрыгнуть до окошка. С третьего подскока получилось, но лишь ободрал ладони о мелкую гранёную решётку. Потом снова рухнул на солому и с тоской уставился в темноту. Вот так же, должно быть, сидел здесь до меня какой-нибудь бедолага, которого ретивые опричники сунули сюда за якобы злокозненные замыслы. Метался, выстукивал стены, стремясь отыскать выход на волю... Потом скрежетал зубами и глухо, бессильно бранился, пытаясь унять колотящееся сердце. А оно, бедное, сжималось в груди и щемило, и просило свободы... Я вспомнил, как в детстве мы с мальчишками ловили близ монастыря щеглов, сажали их в ивовые клетки и смотрели, как прыгает птичка туда-сюда, ища дверцу, чтоб вырваться в небо. А затем щегол замирал, и чёрные бусинки глаз смотрели куда-то, не видя ничего вокруг. Наверное, он тоже терял надежду... Как я.
И жизнь впридачу - Страница 1
И жизнь впридачу - Страница 2